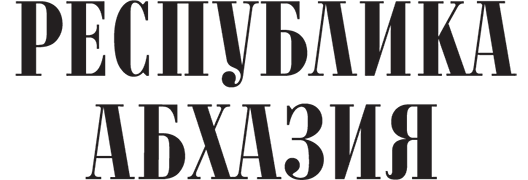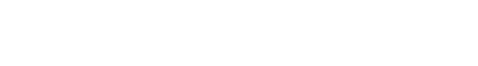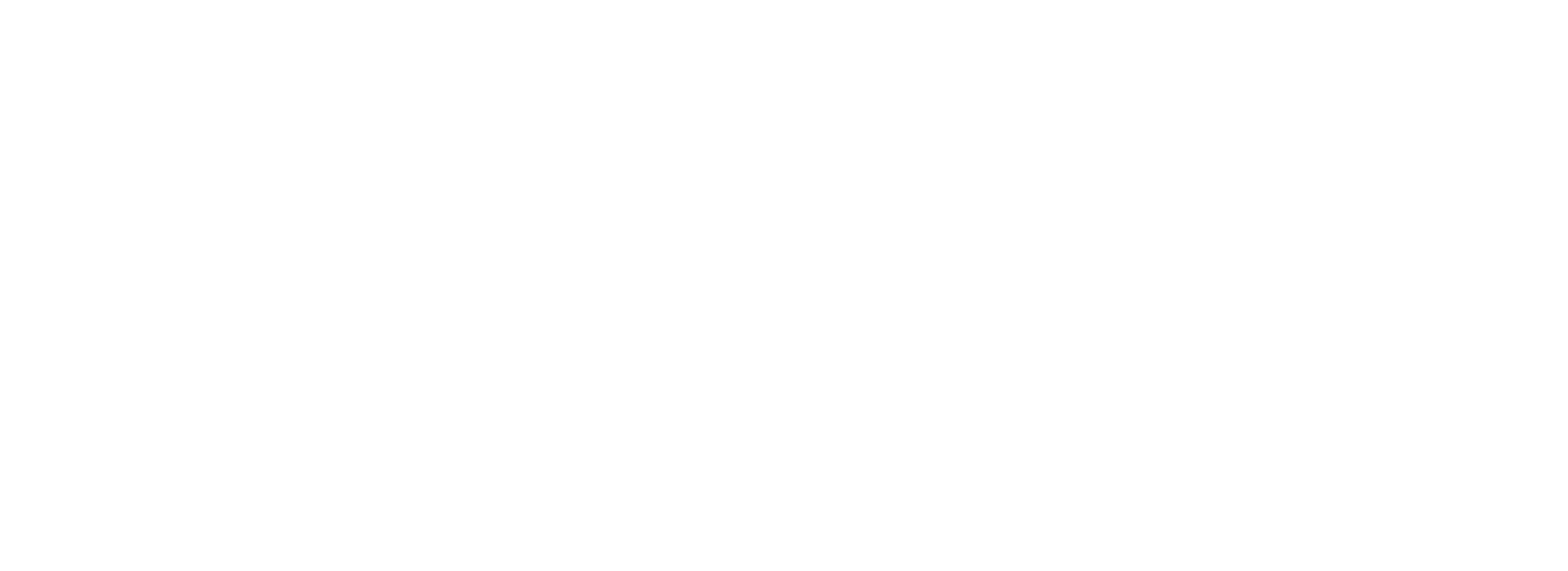Я слышал, что будет круглый стол с участием губернаторов, глав республик, министров культуры, ректоров северокавказских вузов. Спросил дипломатично Президента: «А я в какой роли, Владислав Григорьевич?» Он как-то спокойно намекнул, что это не имеет значения. Абхазия тогда еще не была признана Россией, но входила с совещательным голосом в Ассоциацию «Абхазия – Северный Кавказ». Я тщательно поработал над темой о духовных истоках исторических и культурных взаимосвязей горских народов Кавказа. Помню, текст подшлифовал мне крупный мастер художественного слова Алексей Гогуа. Вел встречу Президент Адыгеи Аслан Джаримов. Но почему-то слово мне не давали. Я стал переживать: приехал из Абхазии, а вдруг не согласовано мое выступление с оргкомитетом фестиваля. Сидел и вспоминал сюжет великолепного психологического рассказа К. Федина «Член делегации», когда абхазу, приглашенному на какой-то высокий форум в советскую эпоху так и не дали слово. Герой рассказа внушал себе, что, дескать, не так, видимо, легко преодолеть процедурно-протокольные препоны, но очень надеялся, что все-таки полпреду Советской Абхазии не могут не дать слово. Увы, эти благие упования оказались самоутешительной иллюзией.
Приблизительно такое тревожное и несколько меланхоличное состояние испытывал я, сидя среди губернаторов и министров. Однако перед завершением дискуссии уважаемый Аслан Джаримов пригласил меня к микрофону, достаточно подчеркнуто и любезно озвучив мой скромный титул председателя общественного фонда культуры Абхазии. Я воспрянул духом и, подойдя к микрофону, достаточно ритмично и внятно зачитал текст своего выступления. И отвел душу с чувством исполненного долга. Видимо, субординацию пришлось соблюдать ведущим, в соответствии с рангом о табелях, тем более что тогда еще я не был министром культуры. В любом случае, я избежал участи члена абхазской делегации из рассказа Федина.
Вечером нас повезли на Майкопский стадион, и в тот момент, когда на сцене выступал ансамбль «Кавказ» незабвенного Кандида Тарба, народ, словно ошеломленный каким-то редким зрелищем, дружно встал и начал громко аплодировать. Мне почудилось, будто зрители приветствуют кульминацию танца, изящно представленного ансамблем.
Но инстинктивно оглянувшись назад, я вдруг увидел Владислава Ардзинба, достаточно импульсивно и энергично поднимающегося к правительственной трибуне. Помню, он был в красивом легком плаще бежевого цвета. Поднимался по ступенькам лестницы, как истинный горец, радостно по-братски приветствуя многотысячную публику, весьма эмоционально и бурно выражавшую свои симпатии к Президенту-победителю! Он прибыл на праздник с небольшим опозданием.
Затем мы встретились с ним в майкопской гостинице, на банкете. Он был в превосходном настроении, поздоровавшись со мной, как-то неожиданно для меня, широко и от души улыбаясь, сказал мне, что Валерий Мухамедович Коков, глава Кабардино-Балкарской Республики, внимательно слушал мое выступление на круглом столе и искренне признался, что оно впечатлило его. Я сначала подумал, что это шутка, но Владислав еще раз подтвердил слова своего коллеги и брата. И даже как бы полуиронически, заметил: «А вот меня он редко, когда хвалит». Я от души рассмеялся…
***
Однажды мне позвонил по прямому телефону Владислав Григорьевич. Он сказал, что прочитал текст моего обращения к нему по поводу 30-летнего юбилея легендарного ансамбля «Шаратын», созданного харизматичным и неутомимым хореографом Эдуардом Бебиа. Владислав трепетно относился ко всем творческим коллективам, но к шаратыновцам, потерявшим в суровых боях чуть ли не 20 танцоров, с подчеркнутым уважением. Для Главкома боевые заслуги и героизм артистов, помимо их профессиональных качеств, имели особое значение. И это вполне понятно, судьба Абхазии была на чаше весов.
И вот он сказал мне по телефону, что поможет в организации юбилейных торжеств, тем более что мы ждали прибытия на них уникального адыгейского ансамбля «Нальмэс» выдающегося Амирби Кулова.
А в конце разговора Владислав Григорьевич высказал мне, тогдашнему министру культуры, серьезные замечания к абхазскому тексту моего письма к нему. Пожурил за то, что в письме было слишком много иностранных терминов (аколлектив, астудиа и т. д.). Я дерзнул поспорить с ним, сказав, что это, мол, международный лексикон. Однако он достаточно жестко опроверг мои неубедительные аргументы, многозначительно заметив, что таким путем мы можем лишить структуру абхазского языка его естественной смысловой основы. Наш лидер был неумолим в вопросах неправильного употребления выразительных возможностей абхазского языка. Помню, как он однажды, после интервью, с великим восхищением цитировал наизусть какие-то фрагменты нартских сказаний, где было много удивительных аллитераций и иных чудодейственных звукоподражаний. Владислав Ардзинба как выдающийся хеттолог, знавший несколько мертвых языков, был еще и блестящим текстологом, посвятившим структуре нартских сказаний ряд глубоких статей и публикаций.
***
Когда по рекомендации Владислава меня назначили вице-премьером, он посоветовал мне организовать Фестиваль Фазиля Искандера, отметив феноменальность великого дарования выдающегося писателя. Сказал, пригласите его с друзьями, пусть поездит по нашим городам и весям и воочию увидит, что пережил наш народ в грузино-абхазской войне. И добавил, что намерен за счет президентского резервного фонда приобрести для всех школ Абхазии 10-томник собрания сочинений Искандера. Он рекомендовал включить лучшие рассказы мастера в школьную программу. В итоге в хрестоматийные (учебные) издания вошли несколько ярких новелл из романа «Сандро из Чегема».
А когда мы с безвременно ушедшим режиссером Амираном Гамгиа и известным теледокументалистом Ибрагимом Чкадуа вернулись из Москвы с юбилея Ф.А. Искандера (потрясающий творческий вечер прошел в Театре им. Е. Вахтангова), Владислав Григорьевич, успев посмотреть наш телерепортаж, позвонил мне по телефону и весьма эмоционально поделился впечатлениями от моего интервью с классиком. В конце интервью я попросил Фазиля Абдуловича сказать несколько слов на абхазском. И неподражаемый во всем Фазиль достаточно метафорично заметил: «Сара са8сшъа жьа6ца з0ахгъышьада шь0а уа». Вот этим колоритнейшим словосочетанием и восторгался Владислав Григорьевич. И лично мне он таким образом раскрыл свое восприятие этой редчайшей речевой идиомы писателя: «Вот как раз-таки в этой кажущейся «заржавелости» слов писателя и вся прелесть его гениальной абхазской речи…».
***
В одно время Президент поручил мне перевести на абхазский язык духовную автобиографию нашего выдающегося соотечественника Мурата Ягана (Маана), кстати, рекордсмена (чемпиона Европы и мира) по конному спорту. Его открыл нам профессор Вячеслав Чирикба, опубликовав в прессе великолепное эссе о нем. Я завершил перевод за два-три месяца и пришел отчитаться перед заказчиком. Откровенно сказал, что было нелегко воспроизвести эту редкостную вещь, особенно те нюансы романа, где автор весьма изысканно раскрывает забавные эротические истории и любовные страсти. Но я нашел в итоге абхазские эквиваленты этих чуть табуированных эротических телодвижений. Они бытуют и в нашей интимной сфере, но наши соплеменники, в силу негласного этикета, их стараются не произносить громогласно. У Владислава Григорьевича, читавшего роман Ягана на русском, эти детали вызвали определенный пытливый интерес. Он издал книгу и порекомендовал часть тиража реализовать через книжные магазины («Пусть наши граждане знают, что у нас есть такой великий мыслитель и писатель…»). Тираж разошелся очень быстро, роман обрел в Абхазии и на Северном Кавказе имидж культового произведения. Позже Вячеслав Чирикба и Руслан Джопуа издали отдельной книгой еще одну непревзойденную вещь Мурата Ягана (Маана) – «Киабзе» (это своеобразный философский концепт о физическом и нравственном совершенствовании человека). Они же и обеспечили перевод обоих произведений Мурата Ягана с английского на русский язык, заключив договор с крупным российским переводчиком англоязычной литературы Владимиром Бобковым, изыскав значительные финансовые возможности для этого. По приглашению Владислава Ардзинба Мурат Яган (Маан) посетил Абхазию с супругой Мейзи Гогуа. Президент удостоил нашего прославленного соплеменника орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.
***
Таковы некоторые эпизоды моих воспоминаний о нашем великом национальном лидере, основателе современного суверенного абхазского государства, личности, по сути, и по характеру – пассионарной – из плеяды политиков-романтиков, появившихся на арене в конце 80-х годов прошлого столетия на фоне демократических поветрий на просторах бывшего СССР. Он стал тогда лидером не только свободолюбивых абхазов, но и всех малочисленных народов, освобождавшихся от оков многоступенчатой сталинской иерархии национально-государственного устройства бывшей советской державы. Конечно же, Владислав не был одинок в этой борьбе, рядом с ним стояли депутаты первого созыва Народного Собрания – Парламента РА, лидеры «Аидгылара», и, кстати, ключевую роль в возвращении в Абхазию одного из самых перспективных востоковедов страны сыграли, по моей информации, Роман Чанба, Боча Аджинджал, Ермолай Аджинджал и другие его собратья по научно-исследовательскому цеху. Нам следует не спорить о том, кто был ближе к создателю государства, а резоннее следовать его незыблемому курсу на независимость, достигнутую нашим героическим народом ценой колоссальных жертв.
Владимир ЗАНТАРИА,
писатель, академик,
депутат первого созыва
Народного Собрания –
Парламента РА,
лауреат Госпремии
им. Д.И. Гулиа